On the road to Damascus, или На пути к просветлению | 3
— Почему в названии Murder on the Orient Express употреблен предлог on, а не in?
Понимаемый буквально, это вопрос о том, как ведут себя английские предлоги при названиях средств передвижения. Ответу на него посвящены первые две 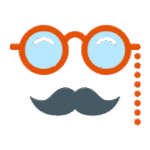 статьи, в особенности вторая. Но мотивирован он тем, что носителя русского языка слегка коробит от такого употребления: по-русски надо сказать Убийство в «Восточном экспрессе». Бывает и наоборот, когда в английском употребляется in там, где говорящий по-русски вправе сказать только на: The Murders in the Rue Morgue VS. Убийство на улице Морг. How come?
статьи, в особенности вторая. Но мотивирован он тем, что носителя русского языка слегка коробит от такого употребления: по-русски надо сказать Убийство в «Восточном экспрессе». Бывает и наоборот, когда в английском употребляется in там, где говорящий по-русски вправе сказать только на: The Murders in the Rue Morgue VS. Убийство на улице Морг. How come?
Такую постановку вопроса можно еще расширить. В английском языке с именами средств передвижения могут употребляться и on, и in – в зависимости от множества факторов, о чем уже подробно говорилось раньше. Не то в русском. В нем при названиях всех таких средств – всех без разбора! – употребляется предлог на, совершенно независимо от того, представляются ли они «платформами» или «контейнерами», как это свойственно английскому языковому сознанию: на поезде, на автобусе, на автомобиле, на вертолете, на самокате, на лошади1). Зато изменение предикатного слова – заменим murder на journey! – никак не влияющее на выбор предлога в английской фразе, немедленно потребует замены предлога в «соответствующей» русской: путешествие на «Восточном экспрессе».
Есть от чего прийти в замешательство! Когда изучающий английский язык (или носитель английского, изучающий русский) приходит в недоумение от подобных «несовпадений», то виновата во всем т.н. интерференция: он подходит к чужому языку с концептуальной меркой своего собственного. О том, что эти мерки – языковые картины мира – разнятся, нам твердят со времен появления гипотезы лингвистической относительности (см.), лет эдак сто, и потому ответом на мое «Почему?» обычно бывает ссылка на языковую конвенцию. То есть никакого ответа, так как на вопрос о том, почему в одном языке конвенция закрепляет не то же, что в другом, и чем конкретно можно объяснить отличия, никому пока еще не удалось ответить с тех пор, как В. фон Гумбольдт выдвинул идею о внутренней форме языка. Это равносильно вопросу о происхождении языка и, если несколько утрировать, о том, почему стол по-русски называется столом, а не пультифуком, и почему русский ездит на машине, англичанин в машине (travels in a car и ни в коем случае не on), а шведу для того, чтобы åka bil (примерно ’ехать машину’), не нужен ни предлог, ни падеж, потому что глагол åka ‘ехать’ оказывается переходным!
Нередко ссылку на конвенциональность подкрепляют спекулятивными соображениями об «исторической памяти языка». Приведу пример. По-шведски можно лежать на диване, а можно и в диване (ligga på/i soffan). Первый вариант обозначает такое, мне кажется, неосновательное, «поверхностное» лежание, второй – более глубокое «залегание» («платформа» VS. «контейнер», если угодно). По-русски же никогда нельзя употребить при этом слове предлог в. Любой диван, каким бы глубоким, мягким и удобным он ни был, концептуализируется носителем русского языка как опорная поверхность. Но почему диван представляется русскому языковому сознанию не так, как шведскому? Исходя из современного состояния языка, ответить на этот вопрос невозможно. Зато можно поспекулировать на историческом материале, хотя для современной речевой практики это нерелевантно. Так, по некоторым сведениям в старину диванами назывались длинные скамьи с мягкой набивкой в канцеляриях. В них никак нельзя было утонуть» или «погрузиться». И уж тем более они не предназначались для лежания. Не исключено, что язык все еще об этом «помнит», и потому диван у нас до сих пор – это опорная поверхность (на), а не контейнер (в).
Вот такая ловкость рук. Но такое, с позволения сказать, объяснение годится как занимательный курьез, но мало чем поможет шведскому студенту, изучающему русский язык. Правда, в этом случае найти хорошую мотивировку и в самом деле не удается. Но есть и такие употребления, когда ссылка на конвенцию вообще неприемлема. Почему, например, мы говорим работать на заводе/на складе/на почте/на автобазе, но работать в школе/в мастерской/в магазине/в архиве? Пытаясь найти в этом безумии систему, ссылаются, например, на то, что слово завод исторически относилось к тому, что у предприимчивого хозяина было «заведено» – место, где он разводит лошадей и т.п., а почта была почтовой станцией. А когда речь идет о поездах и автобусах, то доказывают, что это «платформы», потому что в старину ездили на открытых плоскодонных средствах передвижения, ну, на телегах что ли, и язык этого не забыл. Иными словами, стремятся привязать объяснение к идее ’плоского места, площадки’ и т.п., не выходя за пределы сугубо пространственных представлений, чего, конечно, нельзя сделать даже ценой больших натяжек. Не говоря уже о том, что такие спекулятивные экскурсы лишены объяснительной силы применительно к грамматике современного языка и задачам обучения.
К конвенциям – к «немотивированному» в языке, к той черте, за которую, как кажется, не может переступить объяснительная грамматика – мы неизбежно приходим даже тогда, когда последовательно ищем не объективистские, а когнитивные мотивировки языковых явлений. Неизбежно потому, что «внутренняя форма языка» остается для нас неуловимой абстракцией, и ответа на вопрос, почему именно в данном языке «узаконена» та или концептуализация, у нас нет. Известные мне попытки написать грамматику русского языка, мотивированную его внутренней формой (в свою очередь мотивируемой культурно-историческими причинами, особенностями национальной организации и т.п.), предпринимавшиеся школой Г.П. Мельникова, заслуживают уважения, но их результаты в высшей степени спекулятивны.
И хотя языковая конвенция – это фактор, с которым всегда приходится считаться при объяснении языковых явлений, ссылка на нее допустима только как последнее прибежище, когда исчерпаны все аналитические возможности. Без такого анализа она бессодержательна. Упершись в этот последний предел, мы по крайней мере подойдем к нему не с пустыми руками. Возвращаясь к примерам вида работать на заводе – работать в мастерской, учиться на курсах – учиться в институте и т.п., и памятуя о том, что отношение ’опоры’, выражаемое предлогом на в тривиальных случаях, легко метафоризуется, распредмечивая ’опору’ (подробнее об этом см. здесь), можно предположить, что дополнением предлога на в сочетаниях этого рода будут непредметные имена (завод как ’производство’, курсы как ’форма обучения’), тогда как с предлогом в будут сочетаться слова, вызывающие отчетливое представление о здании, помещении, в котором осуществляется та или иная деятельность. Нет нужды прибегать к историческим натяжкам или упорствовать в сугубо пространственном подходе к семантике. Сказанное здесь – это только черновой набросок решения, более или менее правдоподобная гипотеза, но наблюдения над лексическим материалом ее, как кажется, подтверждают. Это особенно проявляется в сочетаниях с именами учебных заведений: все они подразумевают здания, помещения специализированного назначения, «заключающие» в себе соответствующую деятельность. Такие существительные, как бурса, семинария, училище, школа, академия, университет, консерватория и т.п. все без исключения вводятся предлогом в.
* * *
Итак, сделав длиннющую, но ах как необходимую, оговорку о конвенциональности, я все же попытаюсь ответить на главный вопрос без пустопорожних ссылок на то, что «так принято». Из всего сказанного до сих пор нельзя не заключить, что русский предлог на вовсе не тождествен английскому on (или, если уж на то пошло, шведскому på) – несмотря на то, что прототипическая пространственная схема – объект «А» находится в контакте с верхней поверхностью объекта «В» и опирается на нее – у них выглядит одинаково. В чем же отличие?
Я уже говорил, что предлог на ставит способ существования сущности «А» (траектора) в зависимость от референтной сущности «В» (ландмарка). По-русски мы можем ехать на поезде, но не убивать на поезде. Фраза «Убийство на поезде» либо неграмотна, либо означает, что некто совершил убийство, контролируя транспортное средство «поезд» и находясь на нем – ну там, умышленно наехал на кого-то поездом, застрелил из окна вагона или что-нибудь еще более или менее абсурдное. В любом случае для такой интерпретации потребовался бы очень специфический оправдательный контекст. Предлог на сопротивляется тому, чтобы ситуация ’убийство’ обусловливалась поездом, поскольку в контексте русского предлога поезд концептуализируется как средство транспорта и способ передвижения, в отличие от английского on, для которого train (в референтном употреблении, т.е. с артиклем или под именем собственным) – это еще и метоним маршрута. Поэтому по-русски на поезде можно ехать, но убивать можно только в нем, а не на нем.  В английском же убийство имеет место в поезде, находящемся на маршруте, на пути в Кале. При таком определенном указании на маршрут на употребляется и по-русски: просветление Савла на пути в Дамаск (но, конечно, не в пути и не по пути).
В английском же убийство имеет место в поезде, находящемся на маршруте, на пути в Кале. При таком определенном указании на маршрут на употребляется и по-русски: просветление Савла на пути в Дамаск (но, конечно, не в пути и не по пути).
Отсюда с некоторой вероятностью следует, что «идея» русского ’НА’, утверждающего свой траектор в определенном модусе, обусловленном характером ландмарка, выражена в его концепте куда сильнее, чем у английского. Она более салиентна. В силу этого при буквальном переводе английского названия возникает нелепая обусловленность убийства поездом (а не в поезде, находящемся на определенном маршруте). Поэтому по-русски нужно употребить в. При этом идею пути можно сохранить в переводе только за счет названия поезда – имени собственного «Восточный экспресс», – с которым связано представление о маршруте. Если же его заменить просто нарицательным поезд, т.е. именем класса, – убийство в поезде, – то здесь поезд концептуализируется объектно, только как «контейнер», в котором имело место (локализовано) событие.
А дойдя до этого места, мы и упираемся в конвенцию: почему концептуальное содержание русского предлога на именно таково и отличается от концепта английского on, нужно спросить Гумбольдта. Или Сепира с Уорфом. Потебню. Вайсгербера … Ау! Помогите!
* * *
В заключение еще пара вопросов помельче.
— Почему едущие на крыше поезда «в некотором смысле» едут и на поезде?
См. иллюстрацию в начале первой статьи. В самом деле, когда этот поезд приедет в Калькутту или в Джакарту, можно ли будет сказать о людях на крыше, что они приехали на поезде? Строго говоря, нет – это «звучит» немножко странно. Это потому, что они едут не как пассажиры поезда, регулярного общественного средства транспорта, применительно к которому предлог on размещает их не «на поезде» в буквальном смысле слова, а – метонимически – на полезной несущей площади вагонов. Нет, они едут как непрошеные попутчики на верху движущегося объекта, с которым им по дороге. В то же время, они едут и на поезде – «оседлав», так сказать, поезд, воспользовавшись им как движущейся опорой, подобно средству перемещения открытого типа. То есть о них все таки можно сказать, что они приехали на поезде, но не в том же смысле, в каком это относится к настоящим пассажирам.
— Платформы или опоры?
Мы уже отмечали, что с именами индивидуальных средств перемещения открытого типа, таких как велосипед,  самокат, метла и т.п., употребляется предлог on, хотя они не «платформы» (по ним нельзя ходить) и их площадь мала, достаточна только для того, чтобы человек мог на них опереться – седалищем или стопой. Поэтому имеет смысл различать собственно платформы, несущие поверхности, предназначенные для групповой перевозки, и подвижные опоры, требующие непосредственного нахождения едущего на этом средстве в буквальном смысле слова: сидя на нем, опираясь стопой на площадку для ноги, верхом на нем и т.п. – стало быть, в прямом телесном контакте со всем экипажем, т.к. его сиденье, дека, седло являются не чем-то от него отдельным, а его интегральной частью. В этом смысле «зайцы» на крышах вагонов как раз подобны тем, кто перемещается на средствах открытого типа (с той, конечно, разницей, что им не приходится самим управлять или крутить педали). А употребление предлога on при таких именах мотивировано идеей ’опоры’, актуализируемой как частный случай реализации концепта ’ON’ (см. об этом прим. 5 ко второй части статьи).
самокат, метла и т.п., употребляется предлог on, хотя они не «платформы» (по ним нельзя ходить) и их площадь мала, достаточна только для того, чтобы человек мог на них опереться – седалищем или стопой. Поэтому имеет смысл различать собственно платформы, несущие поверхности, предназначенные для групповой перевозки, и подвижные опоры, требующие непосредственного нахождения едущего на этом средстве в буквальном смысле слова: сидя на нем, опираясь стопой на площадку для ноги, верхом на нем и т.п. – стало быть, в прямом телесном контакте со всем экипажем, т.к. его сиденье, дека, седло являются не чем-то от него отдельным, а его интегральной частью. В этом смысле «зайцы» на крышах вагонов как раз подобны тем, кто перемещается на средствах открытого типа (с той, конечно, разницей, что им не приходится самим управлять или крутить педали). А употребление предлога on при таких именах мотивировано идеей ’опоры’, актуализируемой как частный случай реализации концепта ’ON’ (см. об этом прим. 5 ко второй части статьи).
___________________________
1) Но Прилетит к нам волшебник / В голубом вертолете. Равным образом можно приехать на санях и в санях и т.п. Это разные концептуализации, из которых первая представляет вертолет и сани именно как средства и способы передвижения, в их функциональном качестве, а вторая – предметно, как объекты, «вмещающие» едущего. Сочетание с на – основное и естественное, тогда как сочетание с в встречается в десятки, если не сотни, раз реже и всегда нуждается в прагматическом оправдании..
